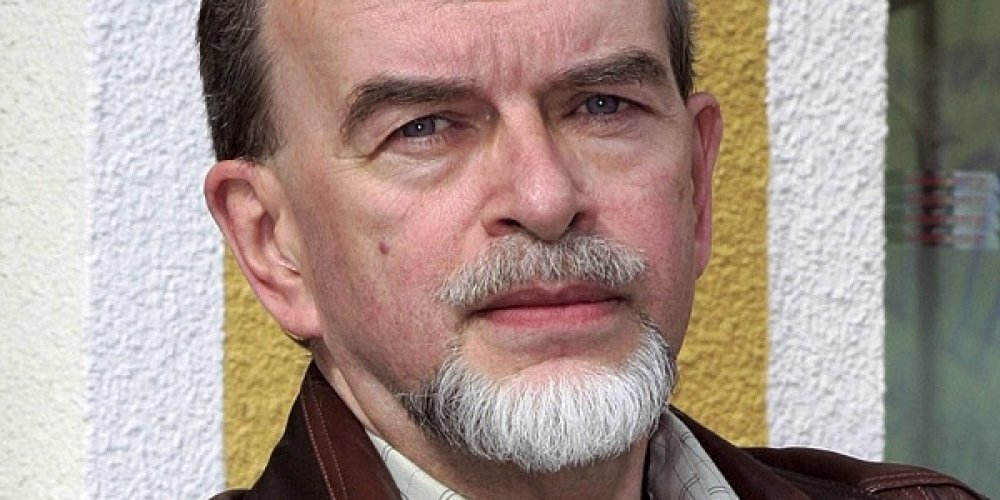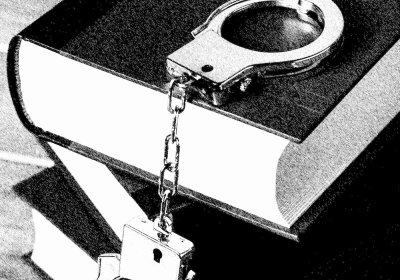По этому поводу можно, конечно, иронизировать или огорчаться, можно тихо скорбеть или громко злорадствовать. Можно ощущать либо полное бессилие, либо горячее желание вмешаться. Нельзя только одного: не придавать случившемуся никакого значения. Мол, сами виноваты! А то и вовсе: подумаешь, эка невидаль, бывало и похуже… Не бывало. То, что произошло в Ида-Вирумаа, говоря словами одного из персонажей «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, – факт, не имеющий прецедента. Хотя кто-то в этой связи может напомнить про, не к ночи будь помянуты, «лихие девяностые», когда в Нарве чуть не дошло до референдума об отделении от Эстонии и о присоединении к России.
История повторяется, и не как комедия
Собственно, референдум состоялся. Правда, с более мягкой формулировкой: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела особый статус в составе Эстонии?». Однако идея «самоопределения» подспудно бродила, как это любили определять большевики и их идейные наследники конца ХХ века, в народных массах. Но надо отдать должное местным властям: им тогда удалось удержать джинна анархии и сепаратизма в бутылке.
Чтобы снизить давление в котлах до ещё более безопасного уровня, было решено в июле 1993-го провести плебисцит с уже процитированным вопросом. Ни об автономии, ни о выходе из состава Эстонии речи не шло.
Также никто не рассматривал возможность создания республики по варианту молдавского Приднестровья на северо-востоке Эстонии. Что же касается вынесенного на обсуждение вопроса, то «особый статус» всего лишь предполагал, что действующие в Эстонии законы должны были применяться в Нарве с учетом специфики этого города, с учетом национальных особенностей здешнего населения: девяносто шесть процентов его жителей – русскоговорящие. Аналогичная ситуация была и в Силламяэ.
В Нарве тогда в опросе приняло участие около 54 процентов горожан, имевших право голоса; большинство проголосовало за особый статус. Большинство голосовавших в Силламяэ также поддержало идею особого статуса их города.
Подчеркнем: ни в одном документе по этому поводу, принятом горсоветами (ныне горсобраниями) Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве, ни слова не говорилось о том, чтобы присоединиться к России.
Убедившись в этом, на Тоомпеа выдохнули. До того, в течение почти двух лет после августовского путча эстонские власти, подозревая весь Северо-Восток в симпатиях к ГКЧП-истам, дышали с оглядкой…
Собственно, расслабившись в тот раз, Тоомпеа, впоследствии и Дом Стенбока, и Кадриоргский дворец, так и пребывали до сей поры в полурасслабленном состоянии, лишь время от времени то натягивая вожжи, то слегка их отпуская – с произнесением ритуальных фраз о том, что Нарва и весь Ида-Вирумаа – это тоже Эстония, однако мало что меняя в здешней социально-экономической жизни. Несмотря на принятие нескольких государственных программ развития региона.
Вакуум воли, вакуум власти…
Тем временем в Нарве стали жить не просто хуже, а гораздо хуже, чем во всей Эстонии. И вот, наконец, грянули выборы‑2023. Шизофреническое состояние, длившееся тридцать лет, когда, по классической формуле основоположников марксизма-ленинизма, «низы не хотели, а верхи не могли», пришло к своему логическому итогу: при наивысшей за всю историю здешних выборов явке к урнам – полный крах всех системных конструкций, как социально-политических, так и идеологических, и политтехнологических. Да, пожалуй, отчасти – и экономических.
Парадоксальный триумф двух полярно противостоящих кандидатов, каждый из которых набрал рекордное количество голосов, на деле обернулся парадоксально же бессмысленной пустотой. Фактически здесь образовалась зона политического вакуума, а пока ещё действующие местные органы власти – это остаточные явления предыдущего периода, существующие по инерции. Хватит ли этой инерции хотя бы до ближайших муниципальных выборов – вопрос, что называется, на засыпку…
Официальный Таллинн, занятый текущими разборками между партиями, победившими и проигравшими на выборах, дележом портфелей и войной на территории Украины, ещё не до конца осознал всю степень важности северо-восточного кризиса, выявленного выборами‑2023.
Характеризовать это «выстрелом себе в ногу» – значит вообще не понимать значения этого выражения и сути самóй возникшей ситуации. Себе в ногу (или в руку) стреляют дезертиры. Нарвитяне никуда дезертировать не собираются. Им просто некуда. Любые разговоры или хотя бы намеки на вероятность «откола» от Эстонии и «ухода» на Восток – это всего лишь попытки свалить вину с больной головы на здоровую.
Нарвитяне в абсолютном своем большинстве – люди вменяемые. И хотя они долгие годы с некоторой печалью констатировали, что в соседнем Ивангороде бензин, сигареты и водка – дешевле, чем в Эстонии (и благополучно всем этим, кстати, пользовались), но они же не слепые. Они могут смотреть российские телеканалы, но не надо переоценивать влияние «ящика»: никто из жителей приграничного района не рвется поменять нарвскую или кохтла-ярвескую прописку на ивангородскую или кингисеппскую.
На самом деле, если уж описывать ситуацию в форс-мажорных образах, то налицо попытка суицида. Акт отчаяния. Причем акт открытый, публичный, рассчитанный на то, чтобы привлечь внимание; проще говоря – призыв о помощи.
В подобных случаях, если они происходят в семье, врачи советуют родителям или супругам полностью пересмотреть свое отношение к члену семьи, совершающему такую попытку, поменять поведенческие стандарты. Если она не завершилась трагедией – еще есть надежда.
Юри Ратас и Кая Каллас – не самые безоговорочно подходящие кандидаты на роли папы с мамой. Тем не менее других пока нет. И напрягаться придется им. Иначе следующая попытка может закончиться гораздо трагичнее.