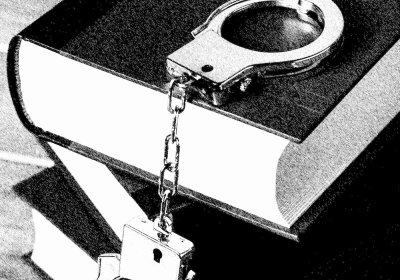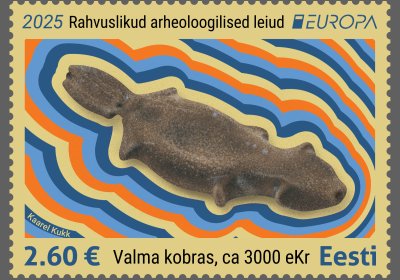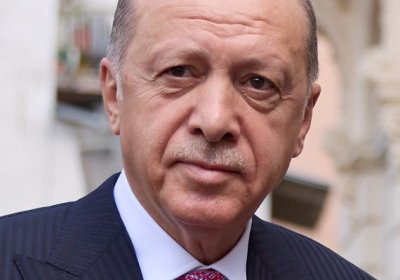«Блондинка за углом» Владимира Бортко снималась в 1981 году, а на экраны вышла лишь в 1984‑м. Потому и считается протоперестроечным кино, в котором лбами сталкиваются советская интеллигенция и нахально-циничное торговое сословие. Однако, если присмотреться, ни одного действительно отрицательного героя в картине нет. А героиня Татьяны Догилевой оказывается истинно советским человеком. Просто личное счастье и дефицит – единственная идея, которую предлагала людям советская власть начала восьмидесятых.
Фильм мало того, что два года пролежал на полке – из него было вырезано все слишком острое, по мнению руководства «Ленфильма». И этого слишком острого оказалось настолько много, что фильм после монтажа пришлось «наращивать» вокальными вставками, благо Андрей Миронов умел держать аудиторию и просто так, наедине с роялем.
И даже со вставками хронометраж крошечный – 1 час 18 минут. А сказать авторы фильма за это время успели достаточно много. Пожалуй, можно сказать, что «Блондинка» – не менее мощный манифест начала восьмидесятых, чем «Собачье сердце» того же Бортко – манифест поздней, отрицающей уже всё советское, перестроечной культуры.
Наш кинематограф с тридцатых годов занимался созданием на экране образа настоящего советского человека. В разной стилистике: от простых и мощных героев Николая Крючкова и Сергея Столярова в довоенных фильмах до искренних комсомольцев в оттепельном кино и ученых в «Девяти днях одного года». Был и популярный женский типаж настоящей советской девушки: это героини «Девчат», «Королевы бензоколонки», «Девушки без адреса» и тому подобных фильмов – активные, воспитанные на правильных лозунгах и хороших примерах.
Наденька из «Блондинки за углом» из этой же плеяды, если присмотреться. Вот уж буквально «последняя Надежда советской эпохи». Да, продавщица, и что? Воспитание-то у нее то самое (сама признается – дед, то есть человек революционного поколения, воспитывал). То, что собой представляет Надя, блестяще сыгранная Татьяной Догилевой, – своего рода слепок последнего общественного договора, скреплявшего СССР. Изучим его по вещам, наполняющим кадр, и поймем, почему страна в конце восьмидесятых, несмотря на «новое мышление», слиняла практически в те же три дня, что и век назад.
Супермаркет по-советски
Действие «Блондинки за углом» происходит формально в Москве: под титрами Останкинская башня, а адрес универсама, внешний вид и товарный двор которого снимали, хорошо известен. Этот магазин (ул. Отрадная, 16) до сих пор работает на том же месте. Корреспондент «МК», росший в Отрадном, хорошо помнит этот универсам – самый обычный позднесоветский магазин самообслуживания, с не слишком богатым, стандартным ассортиментом. А вот само здание (типовое) спроектировано было очень правильно, такие магазины и сейчас удовлетворяют стандартам современных сетей.
Лирическое отступление: когда-то, году в 1987-м, именно сюда завезли партию невиданных тортов «Пингвин» с кремовыми пингвинчиками по углам. На то, чтобы умолить маму купить такое чудо, ушла не одна неделя. Но, ясное дело, те торты быстро раскупили, да и не хранятся они столько времени. А новых не привезли уже никогда…
Так вот, этот среднемосковский универсам, открытый в год съемок (1981), показан только снаружи. Интерьеры принадлежат совершенно другому торговому предприятию – универсаму «Южный» в Ленинграде, на углу Купчинской и Ярослава Гашека. И вот этот универсам был на тот момент достаточно знаменитым и очень хорошо оснащенным.
Загибаем пальцы. Первое, что мы видим, – импортный кассовый аппарат Sweda. До конца семидесятых в советских универсамах были именно такие – «валютные». Потому что более традиционные кассы типа КИМ (а кое-где до самой перестройки работали и дореволюционные National) не могли работать по стандартам магазинов самообслуживания, выписывая длинные чеки на разные позиции. В 1977 году СССР купил лицензию на Sweda, и с тех пор их выпускали в Рязани под названием «Ока».
Дальше в торговом зале – почти правда жизни: мы видим много достаточно приличных товаров (это еще не 1989‑й и не 1990-й, когда даже в московских универсамах было шаром покати). Но номенклатура их довольно ограниченна, поэтому, скажем, в нескольких рядах холодильников одинаковая выкладка: пирамидки консервированного минтая и «Советское шампанское».
Далее – прилавок с «молочкой» в бутылках. Все ли помнят систему с крышечками? А ведь она почти идеальна в смысле «циркулярной экономики» и вообще экономии ресурсов. Итак: стандартные пол-литровые бутылки с широким горлом (удобнее мыть). В такие можно лить и молоко, и кефир, и ряженку. Бутылки возвратные, на молокозаводе их стерилизуют и разливают туда все жидкие продукты. Различие упаковок в одном: цвет крышек из фольги. Белая – молоко, зеленая – кефир, фиолетовая – ряженка (это наиболее распространенные). На той же фольге тиснением отмечается срок годности. Ведь просто, гениально и экологично!
Полужидкие продукты таким же образом фасовались в «майонезные баночки» – стандартные 250-граммовые под закатку. Добавим, что крышечки тоже различались по цветам и что их (как и фольговые от бутылок) в теории можно было сдавать на переработку.
Хлебный отдел: не только батоны и буханки, но и булочки по 20 копеек и ватрушки по 50 (кстати, что характерно, лотки с ценниками перепутаны). Пакетиков для рук, конечно, нет, но есть привязанные веревочками большие вилки – люди насаживают выпечку на них и перекладывают в сумки.
Работает импортная (финская или венгерская – были разные) машина-слайсер для нарезания мяса на стейки. Рядом такая же делает нарезку из сыра. Вспоминаем, кто тогда жил: часто ли, в каждом ли универсаме такое попадалось? О чем и речь, перед нами магазин образцово-показательный.
Что еще? Компоты «Булгарплодэкспорт», овощные консервы «Глобус», польские овощные консервы – импорт из стран СЭВ. Но это в торговом зале. В подсобке куда больше интересного: сигареты Winston, фээргэшное баночное пиво Patrizier (об этом чуть ниже) и много-много вкусной колбасы.
А еще – вот уж открытие – финские яйца! Неужели у нас своих не было? На самом деле, конечно, были, но финские яйца – это типично ленинградская, опять же, штука. Из Финляндии к нам, и прежде всего именно в Ленинград, действительно ввозили этот продукт. Формально – чтобы восполнить дефицит яиц именно на северо-западе СССР. Но дефицит обычных яиц закончился уже к семидесятым. Дело в другом: только финские яйца были, как сейчас написали бы на упаковке, категории C0: крупные, одного размера и белоснежные. Премиум! Как, кстати, и плавленые сырки «Виола»; есть и «Дружба», но эти круче.
Надо лучше кушать!
Подсобка универсама (и тут характерно, с каким презрением сотрудники смотрят, а точнее, вообще не смотрят на покупателя) – коммунизм, выстроенный работниками для самих себя. Не зря, объясняясь с Николаем, Надя потом скажет: «Дураки воруют, а умные живут на зарплату, просто все помогают друг другу». Верная формула – и жизнеспособная, когда у каждого есть чем деятельно помочь.
Мы входим вместе с разгневанным покупателем в подсобку и видим там цветной телевизор (далеко не во всех домах увидишь такой, черно-белые были гораздо более частым явлением). Более того – не просто цветной телевизор, а Sony Trinitron! За десять с лишним лет до того, как эта техника появилась у нас в широкой продаже.
Телевизор японский, а зрители совершенно советские. Особенно как раз Наденька, героиня Догилевой. Как она возмущается проигрышем наших (матч, кстати, совершенно реальный, 1/16 финала Кубка обладателей кубков между московским «Торпедо» и мюнхенской «Баварией», 15 сентября 1982 года): «Ведь все условия созданы!».
Правда, эти советские люди очень строго внутри себя разделены по «классам». Грузчики среди деревянных ящиков пьют дешевое (2 рубля 70 копеек) «Анапа крепкое», выпускавшееся чуть ли не всеми винзаводами Союза. И закусывают краковской колбасой. А «белая кость», среди которых главный, конечно, мясник Рашид Рашидович (Баадур Цуладзе), пьет чай с кексами и даже куличом (на носу-то Пасха) из костяного фарфора сервиза ЛФЗ и электросамовара. Очевидно, директор магазина пьет что-то другое и в другом кабинете (вместе с еще более «белой костью», то есть заместителями и бухгалтером). Коммунизм – но и сегрегация!
И в эту стройную систему попадает, как в бассейн с репчатым луком, инородный элемент – Николай Гаврилович, герой Андрея Миронова. В ширпотребовских кедах «Красный треугольник» за 3 рубля 50 копеек, в старомодном пальто и фетровом берете. С точки зрения магазинного сообщества (в том числе и Наденьки), это совершенно деклассированный человек, сейчас бы сказали – бомж какой-то. Отсюда первоначальное желание Надежды «сделать из него человека».